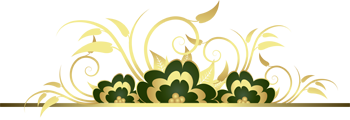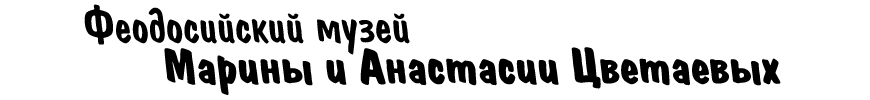 | 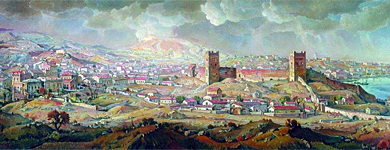 |
Анастасия Ивановна Цветаева. Воспоминания Раздел первый. ДЕТСТВО Промелькнула, прозвенев бубенцами, прошелестев полозьями, Масленица. Кончается Великий пост. Уже тает снег, идут дожди, вечера длинные, светлые. Колокольный звон стоит над Москвой... Скоро — Пасха! Мы уже в драповых пальто с пелеринками, в матросских беретах. В этот год нас взяли «на вербу» — вербный базар на Красной площади. Я так боялась, что меня, младшую, не возьмут. Но Лёра настояла. Меня взяли. Огромная площадь была полна народу. Местами приходилось проталкиваться. Вербные игрушки — «тещины языки», вылетавшие на вас, надувающиеся колбасы и свинки, испускающие с писком дух, морские чёртики, «американ ские жители» в колбах с подкрашенной водой и в стеклянных трубках с резинкой на круглом отверстии — все это верещало, пищало, сверкало, оглушало. Жареный миндаль в бумажных тюбиках, орехи, сладкие стручки, маковники, десятки различных лакомств, квасы, моченые яблоки, сушеные фрукты, кренделя, баранки, пирожки... Гармоника, цимбалы, балалайки... Что заставило маму отпустить к весне гувернантку, учившую нас языку, и взять нам русскую немку? Ее звали Мария Генриховна (см. Примечание 135). Мы почти все время говорили с ней по-русски. Довольно высокая, ширококостная, худая. В ней было чтото жалобное. Мы скоро узнали, что она много страдала, что она — за народ, «против царя». Она тоже привязалась к нам. Это была гувернантка, с которой у нас завязались интимные отношения. Мы назвали ее «Киска». Мы были счастливы, что она будет с нами в Тарусе. Это был друг. В эту весну у нас произошло знакомство с детьми, жившими во дворе, в нашем флигеле, Андреевыми, Таней и Верой. Киска ли способствовала этому сближению? До того мать нам не разрешала знакомств с чужими детьми. Мы росли обособленно, как и она. Впрочем, других детей и не было, — разве что в скверах и на бульварах? В гости к «знакомым» мама не ездила — лишь в театры и концерты. Не знаю почему, Марусе больше понравилась младшая, моя однолетка, Верочка, а мне — девочка много старше меня, Таня. Верочка была маленькая, круглолицая, с белокурой косичкой. Таня — высокая, темненькая. Так мы и разделились, по две. Изредка лишь играли все вместе, с Андрюшей. Во дворе пахло голубиным пометом и сырой землей, она готовилась к первой травке. Мы бегали с кусками черного хлеба с солью, — это так вкусно! Порой на солнце было почти жарко. Капля керосина, неведомо как попавшая в лужу, повела по воде радужный павлиний хвост. Про керосин нам объяснил кто-то. Мы этому керосину не верили, он нам ничего не объяснял. Было чудесно от павлинь их разводов, от нежданного сближения с Андреевыми. Я сидела в уголке двора, где был колодец, возле высокого забора. В этот раз я была с Верочкой. Мы поочередно вскакивали на нижнюю перекладину и смотрели, прячась, чтобы нас не бранили, в Трехпрудный переулок. Однажды мимо прошел Андреев — молодой еще, с белокурой бородкой, человек. — Твой папа прошел! — сказала я Вере. Она вскочила на перекладину, но уже не увидала его. — Вот ты какая! — кричала она, плача. — Не сказала мне! Когда сказала! Я же так редко вижу моего папу... Этого я не понимала, мне было интересно и странно. Как не похожа была жизнь других — на нашу. И какой-то белокурый, молодой отец?.. Отец без Музея, без университета, без очков, и, может быть, строже, и не такой ласково-шутливый, как папа? В синем небе были совершенно серебряные облака. Ворковали голуби. Из окна шли звуки рояля — хроматические гаммы. Муся готовила урок в музыкальную школу. Пальцы ее летели по клавишам так быстро. (Мои — так медленно!) Вера ушла домой. Я побежала в кухню. Там было жарко; пахло котлетами. В смежной комнате — девичьей, большой, в три окна, было светло, весело. Горничная — нашего «верха», Маша, о чем-то смеялась с маминой новой Аришей. Маша — старше, некрасивая, родная. Ариша носит напуск волос, как барыня, к нам — равнодушна; мы ее не любили так, как Машу. Кухарка жарит картофель к котлетам. Кот Вася ходит возле нее. Сейчас мама позовет меня играть на рояле. А завтра пойдем в Кремль! Мы давно там не были. Завтра мы снова увидим Царь-пушку, Царь-колокол... Пойдем в палату бояр Романовых... — А-ся! Мама зовет! — Иду! — кричу я, выбегая навстречу Киске. Как я ее люблю! Ее глаза, светлые, ее лицо, когда она говорит так: «Это есть истина»... Смутно чувствовала я, входя со всей семьей нашей в университетскую церковь, что Киска не любит, не понимает церкви. Мне было жаль. Мне смутно хотелось слить и церковь, и «это есть истина» — в одно. Чтоб было радостно всем. Маруся, еще больше меня полюбившая Киску, четче понимала ее направленность и жарче рвалась к ней, к тому, что стояло за ней. С мамой мы не говорили о Киске, чуя, что она нас — «не поймет» — поймет! не одобрит! Из маминых слов о «Жизни Иисуса» Ренана мы понимали, что в церковь она ходит иначе, чем папа — сын и брат священника. Но было ясно, что и с Кискиной «истиной» маме не по пути. Высокий потолок (а не купол) церкви давал домашний уют службе. Народу было немного — профессорские семьи. Мне было семь с половиной лет, — и полагалось исповедаться; младенческое право на причастие уже было утрачено. Но — была ли эта исповедь «ненастоящая» — то есть говорил ли «вместо меня» — священник — и потому мне моя первая исповедь не запомнилась? Помню позолоту, белизну, пение, золото риз и креста. Давно мы уже знали Священную историю, Ветхий и Новый Завет. Адам и Ева, Каин и Авель. Моисей в камышах в корзинке, найденный египетской принцессой, дочерью фараона, Всемирный потоп, Ноев ковчег, Авессалом, повисший на волосах, Иона и кит, Иисус Навин, сказавший солнцу: «Остановись!»; море, расступившееся, чтобы пропустить евреев и задержать египтян, золотой телец и скрижали, Ааронов зацветший жезл, Давид и Голиаф, висячие сады Семирамиды, Сарра и Агарь, 850-летний Мафусаил, — спутав свою хронологию, жили в голове, в сердце — рядом. И все эти чудеса, войны, гибели целых народов тихо и удивительно кончались о Новый Завет — простой рассказ об Иисусе Христе и рыбаках, ставших апостолами. Он начинался — волшебно: со звезды, волхвов, пастухов, с сияющего Младенца на соломе в кормушке-яслях и склонившейся над Ним Святой Девы, прекраснее которой не было на земле и никогда не будет... И кончался, после Крещения, исцеления прокаженных и бесноватых, Нагорной проповеди (о которой не раз нам говорила мама), после кроткого светлого Вербного (входа в Иерусалим), — страшным грехом Иуды, молением о Чаше, распятием и Воскресением — нашей земной Пасхой! Нет, это было еще не все. Еще сорок дней Христос ходил по земле, вернувшись к людям, и вознесся на небо на глазах апостолов и Своей Божией Матери. Все это было так знакомо — отдельными рассказами и упоминаньями с детства. Оно сопутствовало, как ангел-хранитель. Разве можно было жить без этого? Разве оно могло не быть? Так отчего же Киска не ходит в церковь? И смотрит на нас так особенно, когда мы идем? — Сердце наполнялось тревогой. — И вот, дети, — рассказывала мама, лежа с нами вечером в спальне, под шубой, — как я вам уже сказала, я хотела, как привыкла в те годы, прочесть перед сном главу из Евангелия — я уже знала, какую главу, — но мне очень захотелось спать. «Завтра», — сказала я себе, и закрыла Евангелие, и положила его — это была старая, толстая, тяжелая книга — назад — на «самоварный столик», — он стоял у моего изголовья тогда. На нем — вы знаете — медная доска, поднос с поднятыми краями. Так что задеть книгу и ее нечаянно столкнуть я никак не могла. Я проснулась от сильного стука, шума. Испуганно я зажгла свет — Евангелие лежало посреди пола, далеко от постели, раскрытое на той самой главе. Я не суеверна, дети, — но в мире есть много таинственного, чего не может объяснить человек. Мы любили мамины две иконы — Божьей Матери с Младенцем — в серебряной ризе, из которой глядело темное кроткое лицо с большими скорбными глазами, две темные прорези в серебре — руки, и меж них — Младенец, прямо глядящее маленькое лицо, похожее на лицо Матери. И второй образ (в нашем доме почему-то не говорили «иконы», больше «образа») — образ Спасителя без ризы, светлее и ярче лик. Он держал в одной руке раскрытую книгу; другою, как сказала мама, благословлял. Глаза Его, смотрящие на нас, глядящих, — были синие, добрые и печальные. Мы знали, что Христос был еврей, как и Божья Матерь. Мама с детства приучала нас любить и уважать евреев, рассказывала о неправде против них, о преследованиях и погромах. Не раз, при нас, слыша в беседе гостей — и дедушки Иловайского — слово «жид» (см. Примечание 136), она сухо просила не говорить этого слова при детях и при ней. Мы чувствовали как мама, жалели и любили евреев за их трудную долю и были рады, что в этом мама и Киска — похожи. Киска тоже ненавидела гонителей евреев. Прошли Масленица и Великий пост. Наступила Пасха, и в этом году, как и в те, что помнились, мама объясняла нам значение Вербного входа в Иерусалим. Она, как и мы, как-то особенно любила этот праздник. По улицам радостно гудели колокола, люди шли домой с горящими свечками, заслоняя их от ветра рукой и бумажными колпачками. Затем потянулся мрак Страстной недели. В четверг церкви были полны народу, чтение двенадцати Евангелий длилось до ночи. Нас не заставляли долго стоять в церкви, и мы не уставали. В пятницу, приложась к плащанице в по-особенному тихой, скорбной церкви, люди возвращались домой и, предчувствуя Пасху, бросались в приготовления к ней. Красили яйца, пекли куличи, терли сквозь решето творог для пасхи. Мы летали по дому, пробуя, приставая, мешая, радуясь вне мер. Впрочем, из всех нас Маруся меньше льстилась на пробование: утянет изюму, цукатов или еще что-нибудь и сядет в уголку с книгой, радуясь, что ей не мешают — меньше смотрят за ней, чем всегда. В ночь под Пасху старшие ушли в Кремль, на пасхальное церковное торжество, слушать перезвон всей Москвы, начинавшийся с колокольни Ивана Великого. Мы, у себя наверху, ждали их, ловя отсветы ракет и слушая в фортки, раскрытые по-весеннему, гул и трезвон, христосование ликующих колоколов, слушая — не идут ли уже наши, праздновать с нами Пасху. Пасха, куличи, разноцветные яйца, окорок, вино, гиацинты... — А в прошлом году — помнишь?.. Уж год прошел!.. И никто из нас не знал, не предчувствовал, что это — последняя Пасха нашего детства дома, что скоро дом наш останется пуст... И снова мелькают верстовые столбы мимо вагонных окон, снова поезд везет нас, радостных, из Москвы в Тарусу, в наше летнее, любимое, цветущее и горящее солнцем, овеянное ветром и запахами сирени и жасмина, насиженное родное гнездо. назад - далее - к содержанию --- |
Примечание 135 Мария Генриховна (Киска) — упоминание о ней можно встретить в очерке МЦ «Мой Пушкин». Примечание 136 ...слово «жид»... — Об отношении к евреям в семье Бернацких и Мейн, а также о дворянском происхождении А. Д. Мейна см. в письме МЦ к В.Н.Буниной от 24 августа 1933 г. (МЦС. Т. 7. С. 248—249).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2011-2018 KWD (при использовании материалов активная ссылка обязательна) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||