
| ||||||
| Литературная критика - Репрезентация творчества Александра Грина в СССР 1.2. СССР и Гринландия: Конфликт парадигм (начало::продолжение::окончание) 23 февраля 1941 года в Литературной газете была опубликована статья Веры Смирновой «Корабль без флага». Это была разгромная анти-гриновская публикация, появившаяся в печати в знаковый день - в день праздника Красной Армии, за четыре месяца до начала войны. Передовица этого памятного номера была посвящена новому типу героя советской литературы – человеку с ружьем. Развивая идеи, заявленные в «ура-патриотической» передовицей, Смирнова делала вывод, что с таких писателей, как Грин, пора сорвать маску, обнажить их антисоветскую сущность, и что «у корабля, на котором Грин со своей командой отверженных отплыл от берегов своего отечества, нет никакого флага, он держит путь «в никуда» [140].
Бинарная оппозиция, выраженная в противопоставлении «локальное» - «глобальное» действительно занимает одно из центральных мест в сложной художественно-философской системе гриновских произведений. «Родина» выступает как основополагающее понятие, тесно связанное с гриновской концепцией свободы. Такое оригинальное явление, как создание литературной страны Грина – Гринландии – также необходимо рассматривать в контексте гриновской национальной парадигмы. Интересно, что Грин никогда не изображал карту своей страны графически – наиболее подробно карту Гринландии восстановил французский ученый Клод Фриу (Claude Frioux), основываясь на текстах писателя [143]. В то же время, Грин с удивительной точностью сохранял в памяти все детали несуществующего полуострова. Для него это было не абстрактное, а совершенно конкретное место: Он [Грин – Н.О.] уверял меня, что представляет себе с большой точностью и совершенно реально места, где происходит действие его рассказов. Он говорил, что это не просто выдуманная местность, которую можно как угодно описывать, а постоянно существующая в его воображении в определенном, неизменном виде [144]. Существует свидетельство, согласно которому Грин мог точно описать дорогу из одного города своей страны в другой. Важен тот факт, что Грин точно помнил мельчайшие детали, он не придумывал их каждый раз заново. Однажды, по воспоминаниям Э. Арнольди, Грин во всех подробностях описывал маршрут из Зурбагана в другой город. Грин стал спокойно, не спеша объяснять мне, как объясняют хорошо знакомую дорогу другому, собирающемуся по ней пойти. […] Я не знал, надо ли этот рассказ понимать как быструю импровизацию, или мне довелось услышать описание закрепившихся на самом деле в памяти воображаемых картин? […] Я оставался в сомнении, следует ли попытаться проверить услышанное […] Но через некоторое время я напомнил о его обещании еще раз описать дорогу из Зурбагана. Грин отнесся к моему вопросу так, словно я спрашивал о самом обыденном. Не спеша и не задумываясь, он стал говорить, как и в прошлый раз. […] По мере того, как он говорил, я вспоминал, что уже слышал в прошлый раз, об одном – совершенно ясно, о другом – что-то похожее [145]. Свидетельство Арнольди воспроизведено здесь наиболее полно, потому что оно дает возможность заключить: страна Грина - неотъемлемый элемент всего творческого мировоззрения писателя. Гринландия – это просто не инструмент создания экзотического фона, не абстрактное место действия, не дань «необычной обстановке», свойственной романтическому стилю. Это не средство, а цель. Страна Грина с особой мелодикой названий городов, жарой, океаном и горными вершинами, страна экзотическая и в то же время совершенно реальная вплоть до будничного, детального описания дороги – это своеобразный творческий манифест. В сущности Гринландии заключен весь Грин. Страсть Грина к экзотике – по-видимому, наследие детского увлечения Стивенсоном и Жюль Верном – диктует географический выбор писателя. Гринладия – это полуостров, расположенный на тропических и, частично, субтропических широтах. Действие произведений Грина часто происходит в городах, расположенных на побережье: в Лиссе, Зурбагане, Гель-Гью, Кассете. За прибрежной полосой тянется горная гряда, а за горной грядой – пустыня. Эта местность географически расположена в Тихом океане, в районе экватора, по некоторым ссылкам – недалеко от Австралии и Новой Зеландии [146]. -return_links(); ?>- Стране, созданной Грином, очень трудно найти аналог в русской литературе. В отличие от своих современников [147], Грин не преследовал политических целей – он создавал среду обитания для своих героев, некий идеальный – и, в то же время, достоверный – мир. Своей литературной страной Грин во многом предвосхитил западную традицию литературной картографии, свойственной жанру fantasy и родственным фантастическим жанрам [148]. Однако жить в Советском Союзе и открыто выражать свою аполитичность – это роскошь, которую могли позволить себе очень немногие граждане тоталитарного государства. Даже после смерти Грина его произведения, выражающие мировоззрения автора, оказались в жестком идеологическом конфликте с властью. В сталинскую эпоху утопическим пространством являлось пространство действительного СССР, потому что даже география страны в то время представляла собой территорию социально-политической утопии. Процесс тщательного табуирования пространства, начавшийся во время сталинской культурной революции в конце 20-х годов, привел к тому, что реальные географические данные стали информацией, засекреченной государством. Те немногие изображения, которые украшали почтовые марки и страницы журналов, проходили тщательный отбор на государственном уровне – то, что выдавалось за визуальный образ реального СССР на самом деле являлось сконструированным изображением утопической страны, которой никогда не существовало. Подробное описание этого процесса приведено в статье Евгения Добренко «The Art of Social Navigation: The Cultural Topography of the Stalin Era». На примере популярного географического атласа Карта Родины (1947), автор которого (Николай Михайлов) был удостоен Сталинской премии, Добренко анализирует репрезентацию географического, экономического и культурного пространства СССР в сталинскую эпоху. В частности, он обращает внимание на крайне лимитированное визуальное/реальное изображение, большей частью замененное вербальной репрезентацией. Карта страны – то есть ее реальный облик - становится неким сакральным предметом, доступным лишь немногим посвященным. Рядовые же граждане не имеют доступа к действительным изображениям; они живут в утопическом пространстве, сконструированном сталинскими средствами массовой информации. But without a map, a country does not know itself – even more so a country that consists of unheard-of expanses. And if there is nothing to see, no map to look at, all that remains is to hear. Therefore, instead of a map, words needed. It turns out that it is not at all necessary to show a map: it is quite possible to tell it. […] It turns out that the map is not at all a visual image but a verbal sequence. […] In essence this descriptive strategy creates a certain virtual space, one that I call “discursive space” [149]. В контексте этого определения черты гриновской страны, остановившейся в своем развитии в начале ХХ века, приобретают некоторое сходство со сталинской «страной Советов». Эту страну не изображают на географических картах (как и Грин графически не изображал свою Гринландию) ее описывают. Таким образом, Советский Союз сталинского времени становится виртуальным «дискурсивным пространством» культурно-социальной утопии. на верх страницы - к содержанию - на главную | |||||
| ||||||
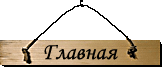
 В этом пассаже наиболее ясно выражена одна из главных причин, по которой произведения Грина не могли быть вписаны в контекст официальной сталинской культуры. Государственная концепция патриотизма резко конфликтовала с гриновской трактовкой национального и интернационального. Еще с дореволюционных времен за Грином закрепилось звание подражателя западному приключенческому жанру, эпигона западных литературных моделей [141], который призывал своих читателей к побегу из России и русской литературы [142].
В этом пассаже наиболее ясно выражена одна из главных причин, по которой произведения Грина не могли быть вписаны в контекст официальной сталинской культуры. Государственная концепция патриотизма резко конфликтовала с гриновской трактовкой национального и интернационального. Еще с дореволюционных времен за Грином закрепилось звание подражателя западному приключенческому жанру, эпигона западных литературных моделей [141], который призывал своих читателей к побегу из России и русской литературы [142].